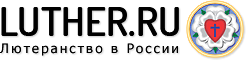«Gloria Dei vivens homo» («Человек — слава Божия») — знаменитое высказывание Иринея Лионского хорошо выражает побудительный мотив, вдохновлявший богословие XX века, стремившееся после эпохи диалектической теологии с чисто богословских позиций обосновать достоинство человеческого субъекта.
Здесь можно привести имена таких блестящих богословов, как лютеран Рудольфа Бультмана и Дитриха Бонхёффера, католиков Карла Ранера и Анри де Любака.
Р. Бультман пишет в своем автобиографическом очерке, опубликованном в 1957 г.: «Я пытался соединить решающий вклад диалектической теологии с наследием либеральной теологии: но это, очевидно, предполагает, что я занимаю критическую позицию по отношению к обеим».
Но как Бультман понимает либеральную теологию, от кото¬рой он вовсе не собирается отказываться? Он отвечает на этот вопрос в одном тексте 1924 г.: «Все те из нас, кто вышли из либеральной теологии, не могли бы стать или оставаться богословами, если бы не столкнулись, именно в сфере либеральной теологии, со строгостью радикальной истинности. Односторон¬няя верность ортодоксальному богословию разорвала бы наш разум. То, что нас всех определяет — атмосфера истинности, единственная, в которой только мы можем дышать».
Что означает «радикальная истинность» либеральной теоло¬гии? В ней христианское откровение встречается с современным человеком, его зрелой и эмансипированной мыслью: и сегодня Откровение вновь должно встретиться с критическим разумом. С этой точки зрения вызов либеральной теологии остается актуальным. Но, с другой стороны, либеральная теология одно¬сторонне делала акцент на величии человека вплоть до превращения «Бога, даже божественного, в предикат человека». В этом отношении она уже неприемлема. Необходимо, однако, искать «новое богословие», и диалектическая теология помогает идти вперед в этом новом направлении.
В 1924 г. Бультман в своей статье Какой смысл говорить о Боге сегодня? пишет: «Бог — это упразднение (Aufhebung) чело¬века. Бог ставит человека под вопрос, Он судит его». Здесь мы еще находимся в атмосфере диалектической теологии. И Бультман хочет сказать, что Бог, и только Бог, освобождает человека от одиночества и спасает его: необходимо отвергнуть либеральное представление о человеческой самодостаточности. И дальше он продолжает: «Первородный грех человека — его самоутверждение. Но человек, замкнутый в себе, не избежит Божия суда. Знать Бога как нашего Судью означает знать Его как наше Спасение, как Того, Кто дарует нам благодать и спасает нас».
Поэтому предметом богословия, если оно хочет быть подлинным богословием, является Бог: «Богословие говорит о Боге далее тогда, когда рассматривает человека, так как всегда видит человека в присутствии Бога. Оно говорит о человеке, движимое верой» (Р.Бультман). С одной стороны, Бультман принимает либеральную теологию в ее основном пункте — невозможности отказаться от современного человека с его зрелым разумом, не расположенного соглашаться с непонятными ему догмами лишь подчиняясь авторитету, пусть даже религиозному. С другой стороны, он принимает и диалектическую теологию, критикуя ограниченность слишком человеческого видения мира и подчеркивая значение веры, которая одна только способна обеспечить спасение человека, а следовательно, и полноту его человечества. Эти два подхода кажутся непримиримыми, но именно в их примирении Бультман находит свой собственный путь.
Первым изложением этой программы стал текст, вошедший в историю под не совсем точным названием Манифест демифо-логизации. В действительности, сообщение, сделанное Бультманом 6 июня 1941 г. в Альпирсбахе (Шварцвальд) на заседании Общества лютеранских богословов, было озаглавлено Новый Завет и мифология. Это был, возможно, наиболее памятный богословский диспут XXвека.
Бультман утверждает, что предполагаемое вестью Нового Завета видение мира «мифологично» и как таковое не может быть предложено современному человеку: «Мы не можем пользо¬ваться электрическим светом и радио или прибегать в случае болезни к современным достижениям медицины и одновременно верить в мир духов и чудес, предлагаемый нам Новым Заветом».
Картина мира (Weltbild) Нового Завета мифологична и потому контрастирует с образом мира современной науки, которую в то время представляли физические теории Эйнштейна и Макса Планка. Мифологический взгляд делит мир на три плана: земля находится в центре и обращена вверх, к верхнему плану, небу, где обитают Бог и ангелы. Земля обращена также к нижнему, подземному плану, Аду, населенному дьяволами. Современная наука объясняет функционирование вселенной причинно-следственными связями и не расположена считать, что мир может быть «пронизан сверхъестественными силами».
Мифологическое мышление рассматривает мир и личную жизнь человека как открытые для вмешательства потусторонних сил, а наука считает, ‘что они закрыты для подобного воздействия и человек как субъект ответствен за свои чувства, мысли и желания.
Новозаветная весть выражена в соответствии с древней картиной мира мифологическим языком, языком «воплощения предвечного существа, искупительной смерти, воскресения, сошествия во Ад, вознесения на небо, пришествия в конце времен, эсхатологии последних дней мира. Поэтому, если новозаветная весть должна сохранить свое значение, нет иного пути, кроме пути демифологизации».
Согласно Бультману, демифологизация имеет двойную задачу: негативную, состоящую в критике мифологического образа мира, при помощи которого Библия формулирует свою спаси¬тельную весть, и позитивную, заключенную в поиске в книгах Священного Писания подлинной вести о спасении, их «спасительной направленности». Обе задачи переплетаются в сложной герменевтической, то есть интерпретационной процедуре, охватывающей весь текст. Демифологизация не означает только изъятия мифологических частей Нового Завета: мифологическая картина является априорной данностью, включающей в себя все содержание и охватывающей всю новозаветную весть.
Либеральная теология стремилась осуществить демифологизацию путем устранения мифа, рассматриваемого как оболочка некоего постоянного ядра «этических утверждений». Для Бультмана демифологизация означала интерпретацию — антропологическую, даже экзистенциальную интерпретацию провозвестия Нового Завета. Ее задача — отбросив мифологические формы, выявить эсхатологическое Слово, решающее и окончательное Слово, произносимое Богом во Христе, и получить тем самым несравненную возможность подлинного существования, которую это провозвестие дает человеку, в том числе и человеку наших дней.
Критика обвиняла Бультмана в демифологизации того, что не может быть демифологизировано. Католическая критика писала, что в действительности Новый Завет является историей спасения, то есть подлинной историей, которую, однако, во всей ее глубине может постигнуть только вера. Со своей стороны, Барт возражал Бультману, утверждая, что тот затрудняет себе понимание новозаветной вести из-за исходных предпосылок хайдеггеровского толка, которые служат для него своего рода «смирительной рубашкой». Философ Ясперс выступил против абсолютизации картины мира современной науки, считая, что не следует действовать в рамках присущей эпохе Просвещения сомнительной концепции мифа, дискредитирующей его изначально.
Мы уже цитировали немецкого философа М. Хайдеггера, друга и в течение шести лет (с 1923 по 1929 гг.) коллеги Бультмана по университету Марбурга. Какую роль сыграла философия Хайдеггера в богословии Бультмана? Если необхо-димо осуществить синтез требований диалектической и либеральной теологии и говорить о Боге и вместе с тем о человеке, то как говорить о человеке? Богословие не может не ждать от философии «корректной антропологии и ее специфической концептуальности» (Р.Бультман). Но какую философию он имеет в виду? Либеральная теология использовала идеалистическую, в частности, гегелевскую философию. Бультман же предпочитает экзистенциальную аналитику Хайдеггера, помогающую фе¬номенологически описывать структуры человеческого существования.
Человек рассматривается Хайдеггером как экзистенция, как исторически существующее, как возможность, открытость своему будущему: «Человек единственное существо, выступающее за рамки мира используемых им вещей, поскольку в состоянии проектировать свою жизнь, то есть может выходить за собственные границы. Человек есть возможность себя и как таковой имеет будущее: в конечном итоге, человек — это историчность».
Со своей стороны, Бультман пишет: «Мы считаем, что для правильного понимания человеческого бытия следует определить его как историчность. Этим мы хотим сказать, что оно есть бытие-возможность. То есть бытие человека каждый раз действенно участвует в конкретных жизненных ситуациях».
Как уже говорилось, для Хайдеггера человек — это экзистенция (от ex-sistere — выступать, становиться), выход за пределы себя, трансцендентность по отношению к самому себе: это предполагает его бытие как возможность и способность решать свою судьбу и, наконец, как понимание самого себя. Но у человека есть два пути: понимать себя и решать, беря за основу мир вещей и существуя тем самым неподлинно, или же, исходя из самого себя и обретая тем самым свое подлинное существование. Неподлинное бытие — это бытие, падшее до уровня вещей, захваченное вещами, это значит жить, теряя себя в повседневных заботах, это существование, погрязшее в суете мира. Подлинное существование «означает понимание себя, исходя из своих человеческих возможностей, это принятие себя, своей ограниченности, случайности и смерти как последней и неизбежной возможности. В устремленности человека в будущее, проявляющейся в его решениях от рождения до смерти, состоит его историчность.
Богословы долго спорили о том, насколько правомерно было принятие Бультманом категорий экзистенциальной философии. Сам он утверждал, что использовал эту «нейтральную концепцию», чтобы понять экзистенцию, присущую Новому Завету, хорошо сознавая разницу между экзистенциальной аналитикой Хайдеггера и новозаветной категорией существования.
То, что для Хайдеггера есть подлинно человеческое суще¬ствование, еще не является таковым в христианском смысле: несомненно, преодолеть порог, отделяющий подлинное существование (в смысле Хайдеггера) от подлинно христианского существования, не во власти людей. В Новом Завете подлинное существование есть вера, а неподлинное — грех. «Грешник — человек, желающий спастись собственными силами. Грех — это самодостаточность, связанность с прошлым и закрытость по отношению к будущему, это страх того, кго хватается за самого себя и тем самым гибнет. Вера — это желание целиком и полностью отдать себя Богу, это значит принять от Бога дар спасения, который Он дарует нам по благодати. Верить — это ощущать себя всего в руках Божиих, освободиться от своего прошлого и открыться в надежде на будущее Бога. Вера озна¬чает всеми силами держаться Бога для обретения спасения».
Начало христианской жизни, вера — это дар Божий. Разви¬тие этой жизни — задача человека. «Вера живет в диалектичес¬ком напряжении данного (Gabe) и заданного (Aufgabe). В вере в виде дара дается возможность подлипло христианской жизни и только затем это становится задачей, которую человек может осуществлять в различных жизненных ситуациях».
И потому ясно, что подлинное в христианском смысле суще¬ствование не во власти человека: оно становится возможным только благодаря Богу и Его слову. В начале христианской жизни находится некое событие — Христос (Christusgeschehen), которое есть событие Спасения (Heibgeschehen): оно необъяс-нимо и дается человеку безвозмездно.
«При том, что человек способен предвосхищать различные события, например свою смерть, чтобы придать полный смысл собственному существованию» (М.Хайдегер), событие Христа представляет собой «благодать, чистую благодать, равно как и спасение есть тоже одна только благодать» (Р.Бультман). Философия, в том числе и философия Хайдеггера, которую Булътман считает лучшей из философий, может только анализировать формальные структуры существования, но не способна дать спасение. Бультман осознает, что «философия замыкает человека в его человеческом горизонте, она может стать идеологией, обвивающей его своими несущими гибель витками. Только Керигма веры приходит к человеку извне, из сферы онтологического различия и приносит ему спасение».
Подготовил пастор Павел Ткаченко